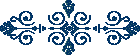Мы переходим теперь к вопросу, ради более полного освещения которого нам и пришлось сделать этот обширный экскурс в область истории формирования идеологий мусульманского мира, а именно к вопросу о том, как суфийское движение оказалось связанным с литературой, преимущественно поэзией, и дало, таким образом, мировой литературе ряд бессмертных памятников.
Мы видели, какое большое значение суфии придавали достижению экстатического состояния, считавшегося особой милостью, ниспосылаемой Богом. Поэтому не удивительно, что в их кругах уже в раннюю эпоху усиленно искали средства, которые могли бы способствовать вызыванию экстаза. Одно из этих средств вскоре было признано особо эффективным. Это была музыка, инструментальная и особенно вокальная, сочетающаяся с художественным словом. Слушание музыки было введено в обычай у целого ряда шейхов и получило техническое наименование «сама» (от араб. самаа — «слышать», букв. «слушание»). Сама не могло не вызвать в правоверных кругах резкого протеста как недопустимое новшество, несовместимое с шариатом, и потому почти все ранние работы по суфизму (X—XI вв.) усиленно обсуждают вопрос о его допустимости. Хотя даже и в самой суфийской среде далеко не все признавали допустимость сама, но все же большинство, в том числе и такие умеренные суфии, как Газали, считали его не противоречащим сунне. Классическим текстом в пользу сама считается обширный раздел «Ихйаулум ад-дин», посвященный этому вопросу и в сокращенном виде включенный в «Кимийа-йи саадат». В этом разделе особый интерес представляет глава, доказывающая, что сама не может быть заменено чтением Корана и дает большие результаты. Приведем отрывок из нее.
«Слушание чтения стихов Корана применяется часто, и исступление от него бывает нередко. Многие от слушания Корана теряют сознание, а многие даже от этого лишались жизни. Рассказывать об этом долго, и в книге «Ихйа» я об этом говорю подробно. Но вместо чтецов Корана зовут певцов и вместо Корана поют песни по пяти причинам. Первая та, что стихи Корана не всегда имеют отношение к состоянию влюбленных. В них часто речь о неверных, постановлениях о сделках мирян и разных других вопросах, ибо Коран — целебное средство для всех разрядов людей. Когда, например, чтец читает стихи о наследстве, что матери из наследства причитается одна шестая, а сестре половина, или о том, что жена после смерти мужа должна соблюдать идда четыре месяца и десять дней, это все огонь любви не разжигает, разве если слушатель крайне влюблен и его охватывает восторг от всего, даже от того, что далеко от его целей, что бывает редко. Вторая причина та, что Коран большей частью помнят и много его читают. А все, что часто слышат, сердцу ничего не говорит по большей части. Можно наблюдать, что тот, кто в первый раз слышит что-либо, приходит от этого в экстаз, а во второй раз этого экстаза уже не бывает. Петь можно все новые и новые песни, а читать Коран заново нельзя. В дни Пророка, когда арабы приходили и впервые слушали Коран, они рыдали и приходили в экстаз. Абу Бакр говорил: «Были мы такими же, как вы, но затем огрубели сердца наши», т.е. привыкли к Корану. Итак, все новое действует сильнее, и потому-то Омар приказывал паломникам скорее возвращаться в их города и говорил: «Боюсь, что привыкнут они к Каабе и уважение к ней уйдет из их сердец». Третья причина та, что сердца больше трепещут, когда заставишь их биться напевом и ритмом. Потому-то от обычной речи экстаз бывает реже, а от хорошей песни чаще, когда она имеет ритм и напевы. Тогда каждый напев вызывает особое действие. Коран же нельзя петь и подгонять к ладам и как-либо приспосабливать. А когда он без напева, это — только слово. Только очень горячее пламя он может раздуть еще сильнее. Четвертая причина та, что напевам нужно еще помочь другими звуками, чтобы действие было сильнее, как звуки флейты, бубна, барабана, шахина и др. Пятая причина та, что когда кого-либо охватывает какое-либо настроение, он жаждет услышать стихи, соответствующие этому настроению, а если они не соответствуют, он испытывает к ним отвращение и может сказать: не пой это, пой другое. Коран же не подобает ставить в такое положение, чтобы он вызывал отвращение».
Этот отрывок крайне убедительно доказывает, что основное назначение сама — именно вызывать экстаз. Сама применялось не только на собраниях дервишской общины, но также и на так называемых маджлисах, открытых собраниях, устраивавшихся в ханаках. Жизнеописания нишапурских шейхов X в. показывают, что такого рода собрания в это время были обычны и проводились по расписанию: в определенные дни недели, в определенное время и в определенном месте. Такие же сведения есть и о шейхах багдадских, и можно полагать, что такой порядок был принят повсеместно. Собрание открывали чтением какого-либо отрывка из Корана, а затем шейх поднимался на минбар и произносил проповедь, которая могла чередоваться с пением.
Посетителями таких собраний были по большей части представители ремесленников и малообеспеченных городских кругов. Поэтому читавшиеся и певшиеся стихи, конечно, должны были выбираться с таким расчетом, чтобы они в какой-то мере были понятны собравшимся и соответствовали их вкусам и привычкам. Сведения, имеющиеся о жизни известного шейха Абу Саида ибн Абу-л-Хайра (967 — 1049), показывают, что этот видный представитель хорасанского суфизма в своих проповедях широко пользовался рубаи (четверостишиями), т.е. той стихотворной формой, которая имела народное происхождение и в этот период в аристократические круги доступа еще не получила. Весьма характерно также, что шейх Абу Саид не сочинял сам рубаи, а пользовался уже готовым материалом, можно думать, преимущественно народного происхождения.
Есть основания думать, что так поступали шейхи и в предшествующую эпоху и что использовались главным образом стихи любовные, созданные как светская лирика, воспевавшие обычную земную любовь и только подвергавшиеся соответственному истолкованию. Газали достаточно подчеркивает, что для целей сама была нужна именно любовная песня. Но у того же Газали мы находим и другое важное указание. Он предостерегает от такого пения, которое вместо духовного восторга может вызвать чисто физическую страсть. Следовательно, шейхам нужно было производить известный отбор, привлекать преимущественно такие стихи, которые легко допускали символическое толкование. Отсюда естественно предположить, что уже в раннюю эпоху должна была возникнуть потребность в специальной поэзии, не насильственно толкуемой символически, а уже задуманной как символическая поэзия. Мы видели, что такая поэзия складывалась уже в VIII в. (Рабиа), а для IX в. мы уже имеем многочисленные образцы на арабском языке, сохраненные нам неоценимой Китаб ал-лума фи-т-тасаввуф Абу На-сра ас-Сарраджа (ум. 988).
Вот, например, стихи, приписываемые самому Джунайду:
О разжигающий пламя в моем сердце мощью Твоей,
если б захотел Ты, то угасил бы в моем сердце собою пламя.
Нет позора, если бы я умер от страха и от опасения,
в том, как Ты поступаешь со мной, позора нет, позора нет!
Или стихи Ибрахима ал-Хавасса:
Стерпел я часть мучений из страха перед совокупностью их,
и отразил я душу мою ради души моей, так что возвысилась она.
Заставил я ее пить неприятное ей, пока не привыкла она,
а если б выпила она это все целиком, содрогнулась бы
О, как много унижений, которые подносит душе кубок почета,
и как много душ вследствие почета впадает в унижение.
Если я прогяну руку и буду просить богатства
не у Того, Кто сказал: «просите Меня», то отсохнет она.
Заставляю я терпеть душу мою, ибо в терпении — почет,
я буду доволен моими мирскими благами, пусть их и мало.
Этот отрывок — прекрасная иллюстрация к психологическим состояниям — макамам терпения и покорности, о которых мы говорили выше.
Следующие стихи Шибли уже затрагивают тему любви в более или менее плотской окраске:
Расплавилось мое тело от того, что в моем сердце,
и расплавилось мое сердце от того, что в теле.
Перережьте вервь мою, а если хотите, свяжите,
всякое дело, исходящее от вас, для меня прекрасно.
Люди уверились в том, что я — влюбленный,
не знают они только Того, к Кому моя любовь.
Еще отчетливее эта окраска в таких стихах Йахйи ибн Муа да ар-Рази — первого автора, читавшего с минбара полный курс суфийских теорий:
Я умираю от болезни, для которой не найти лекарства,
и нет избавления от того, что я испытываю из бед.
Говорят: Йахйа обезумел после того, как был здоров,
и не знают порицатели о том, что у меня внутри.
Когда болезнь мужа — любовь к Господину его,
то на какого же врача-целителя он может надеяться,
кроме Него?
С Аллахом проводит он жизнь свою, наслаждаясь,
увидишь ли ты его покорным или мятежным.
Предоставьте меня себе самому и не умножайте скорби моей,
и отпустите мои поводья, чтобы я мог пойти
к Повелителю повелителей.
О, бегите от меня и пожелайте разрыва со мной,
и не раскрывайте того, что скрывает мое сердце.
Поручите меня Господину и прекратите попреки мне,
дабы мог я дружить с Господином несмотря на все то,
что случается со мной...
Таких отрывков можно привести много. Все они близки по характеру, отличаются резко выраженным индивидуальным стилем только стихи Халладжа, отдельные образцы которых мы видели выше.
Когда суфийское движение перебросилось в Иран и начало развиваться в городах, где родным языком был персидский, то возможно, что первое время на суфийских беседах все же пользовались такими арабскими стихами. На это, по-видимому, указывает такое замечание Газали:
«Такие люди, которые не знают арабского, испытывают экстаз от арабских стихов, а глупцы смеются... Эти дураки и того даже не знают, что верблюд тоже арабского языка не знает, а бывает так, что под действием песни погонщика-араба столько проходит с тяжелым вьюком вследствие силы пения и восторга от него, что, когда придет на стоянку и пение кончится, он тут же падает и околевает. Этому дураку надо начать спорить и препираться с верблюдом, что ты, мол, арабского не знаешь, откуда в тебе такой восторг. А бывает и так, что из арабских стихов понимают что-либо такое, что не является их смыслом, но понимают так, как им показалось, ибо цель-то их — не комментарии к стихам. Так, один человек пел: "Не посетило меня во сне ничего, кроме мечты о вас". Суфий пришел в экстаз. Его спросили: "Почему ты пришел в экстаз, ведь ты же не понимаешь, что он говорит?" Он ответил: "Как не понимаю? Он говорит — мы измучены, и правду говорит, все мы измучены и устали, и в опасности..."»
Но, конечно, такое случайное «понимание» могло давать желательный эффект только в редких случаях, чаще же такое арабское пение воспринималось в Иране лишь как музыка. А раз отпадала сила воздействия самого художественного слова, то и воздействие было, конечно, более слабым.
О суфийских «беседах» (маджлис) на иранской почве у нас материалов немного, но я полагаю, что ясное представление об их характере по имеющимся источникам все же получить можно.
По этому вопросу наиболее старые данные содержат обе биографии известного шейха Абу Саида.
Когда шейх временно поселился в Нишапуре (двадцатые годы XI в.), он постоянно устраивал маджлисы и имел огромный успех. На этих беседах очень многие изъявляли желание вступить в число его мюридов, посетители осыпали его богатыми дарами. О количестве мюридов можно судить по указанию на то, что в его ханаке пребывало сорок постоянных жителей и восемьдесят приезжих. Во время бесед шейх на минбаре постоянно пел стихи и стихами приводил многих в экстаз. Его враги именно этот обычай его и осуждали, считая это несовместимым с серьезностью шейха. Они говорили: «На беседах он излагает не комментарии на Коран и не изречения Пророка, а только поет стихи». Каков был характер этих стихов, можно судить по такому любопытному преданию. В Нишапуре была одна праведная женщина из почтенной и уважаемой семьи по имени Иши Нили. Праведность ее была столь велика, что она сорок лет не выходила из дому на улицу и даже не ходила в баню. Услыхав о беседах шейха, она решила послать туда свою прислугу, чтобы она послушала и рассказала ей. Старуха пошла, но из всех поучений шейха не запомнила ничего, кроме пропетого им четверостишия такого содержания:
Был у меня данг серебра, на одно хабба* меньше.
Два кувшина вина купил я, немножко меньше.
На моем барбате ни верхней струны не осталось, ни нижней.
Доколе же ты будешь говорить: каландарство и горе, горе!
* Данг — одна восьмая дирхема, хабба — обычно одна десятая данга.
То есть даже и в таком положении гуляка не унывает и все покорно принимает. Когда старуха прочитала своей хозяйке эти стихи, та пришла в ужас и воскликнула: «Разве можно считать захидом того, кто поет такие слова!» В наказание за такое недоверие к шейху у нее разболелись глаза, и она избавилась от этого недуга лишь благодаря чудесному вмешательству самого Абу Саида.
Это предание ясно говорит о том, что подобные стихи (рубаи) в то время считались несовместимыми с саном шейха, легкомысленными и безнравственными. Можно думать, что стихи такого рода были тогда преимущественно продуктом народного творчества. Это доказывает как тот хорошо известный факт, что рубаи — форма не арабского происхождения, так и другое интересное указание, содержащееся в той же биографии.
Рассказывают, что шейх Абу Саид, проходя по нишапурско-му базару мимо торговца рабами, услышал, как молодая рабыня пела в сопровождении чанга такие стихи:
Сегодня в этом городе нет такой подружки, как я.
Привели меня на базар, а покупателя и нет.
К тому, кто хочет купить, влечения у меня нет,
А к кому влечение, тот купить меня не может.
Нет сомнения, что это рубаи — импровизация, что это такая форма, в какой и до наших дней иранцы и таджики изливают свои чувства. Вместе с тем, между приведенным выше рубаи и этой песенкой по существу разницы нет никакой, и рубаи из проповеди Абу Саида, конечно, тоже идет из народа. О другом рубаи шейх говорил, что получил его от одного из своих учителей, Бишра ибн Йасина:
Без тебя, о душа, не знаю я покоя,
благодеяния твои сосчитать не могу.
Если на моем теле каждый волосок станет языком,
то и тогда одну тысячную часть благодарности
выразить не смогу.
Здесь та же народная форма, но содержание показывает, что создано оно все же специально для суфийской беседы.
Наряду с рубаи среди использованных Абу Саидом стихов есть и газель, по характеру приближающаяся к рассмотренным выше арабским стихам:
На друга за всякий пустяк нельзя обижаться,
ибо эта любовь такова — то радость, а то горе.
Если унизит вельможа, унижение — не в укор,
а если опять обласкает, то клеймо обиды остынет.
Сто добрых дел из-за одного злого нельзя забывать,
если опасаешься шипов, нельзя есть финики.
Он гневается, ты проси прошения,
ведь нельзя же каждый день брать себе нового друга.
Сходство этой газели с приведенными арабскими стихами бросается в глаза. Однако Абу Саид сам стихов не сочинял. Это явствует из его собственных слов. Однажды он написал на обороте письма дервиша такой бейт:
Когда ты стал прахом, я стал прахом твоего праха,
когда я стал прахом твоего праха, я очистился.
А затем он обратился к мюридам и сказал: «Мы никогда стихов не писали. То, что раздается из наших уст, — сочинение доблестных мужей, а большая часть этого принадлежит Абу-л-Касиму Бишру ибн Йасину». Джами дает дату смерти этого шейха— 308/920—921 г., но так как Абу Саид родился в 967 г., а в детстве и даже юности общался с шейхом, то эта дата явно неверна. Ее надо отодвинуть лет на семьдесят (378/988-989). Но и при такой датировке вполне очевидно, что стихи на персидском языке декламировали на беседах шейхов уже в середине X в. Все образцы этих стихов отличаются одними и теми же свойствами: простотой, естественностью, близостью к народному творчеству. Эти свойства вполне понятны. Ведь если на беседах шейхов и бывали иногда знатные и богатые люди, то основная масса слушателей все же состояла из неграмотных или малограмотных ремесленников и мелких торговцев. Шейх должен был приспосабливать свои беседы к их уровню, его речи должны были быть доступными. Отсюда и обращение к народному творчеству и стремление приблизиться к нему. Слушателям надо было дать что-то близкое им, родное. Отсюда безыскусственность, простота, даже, может быть, примитивность языка, легкие метры стиха, близкие к народному пониманию образы. Изысканной игры слов, характерной для придворной поэзии, нет и следа, нет и столь типичной для нее эрудиции. Но зато есть стремление к максимальной эмоциональности, к глубокому воздействию на чувства, а отсюда — порывистость, широкое развитие словесной инструментовки, повторы, омонимы, глубокая рифма, частое применение длинных радифов. Эти свойства суфийская лирика сохраняет и далее, что можно доказать хотя бы таким рубаи гератского шейха Абдаллаха Ансари (1006—1088):
Опьянен я Тобой и от вина и чаши свободен.
Добыча я Твоя от зерна и силка свободен.
Цель моя, когда я устремлюсь к Каабе и капищу, — Ты.
Если б не это, то от этих обеих стоянок я свободен.
К сожалению, о маджлисах шейха Абу Саида мы знаем только то, что он пел на них стихи, отвечал на обращенные к нему вопросы, собирал подаяние в пользу бедных. Беседы эти, вероятно, кем-то записывались, ибо в его биографии говорится: «...около двухсот его бесед (маджлис) в руках у людей», т.е., очевидно, ходят по рукам в записях. Таких записей пока не обнаружено, но есть записи маджлисов автора XIII в., которые, как мне кажется, дают весьма ясное представление о характере таких бесед и, может быть, мало чем отличаются от бесед XI в. Это мадж-лисы знаменитого Саади, сохраненные в его собственной редакции. Ознакомимся с основной частью одного из них.
Вступление составляет касыда муламма, в которой арабские бейты чередуются с персидскими. За этим следует восхваление Мухаммада, причем подчеркивается, что все пророки до него своими достижениями обязаны только ему (теория нур Мухам-мади). Затем Саади продолжает: «Пророк... говорит: "Всякий, кто в этой обители бренности и месте самообольщения, которое ты зовешь этим миром, дожил до сорока лет, если благие дела его не перевешивают порочные его дела и покорность Богу он не предпочитает мятежности, тому скажи: "собирай поклажу и направляйся в ад!" Великая угроза и большое предостережение это для всех непокорных в общине Пророка! Они драгоценную жизнь свою продали за зерно запретного, хирман покорности спалили огнем мятежности. Пришли они ко дню Воскресения, не имея цены.
Чтобы доказать эти слова, скажу я притчу и поищу драгоценную жемчужину в море мысли. Видал ли ты свечу, которую зажгли в подсвечнике и накопили в сердце любовь к ней? Собрались вокруг нее люди, всякий готов услужить ей, и она восседает над чашей... И вдруг забрезжит ясное утро, и увидишь ты, что те люди задуют ее или ножницами срежут ей шею. Спросят их: "О диво! Всю-то ночь служили вы ей, что же сталось, что вы так унизили ее?" И скажут те люди: "Свеча была для нас дорогой, пока она жгла себя, а нам расточала свет. Теперь, когда ясное утро возложило на главу венец зари и дало лучи свои миру, нет больше цены свече и нет нам до нее дела". Итак, дорогие мои, не принимайте эти слова в буквальном смысле. Господство в мире подобно той зажженной свече, а люди, что собирались вокруг нее, — жены и дети, и прислужники, и слуги господина. Всякий спешит как-нибудь угодить ему и словами польстить ему. И вдруг забрезжит ясное утро смертного часа, подует ураган смерти, и увидишь ты, как заберет ходжу ангел смерти, и с трона благополучия он переберется на доски неблагополучия. Снесут его на кладбище жены и дети, рабы и свободные, и все сразу от него отвернутся. Спросят их: "Отчего сразу отвернулись вы от ходжи?" Ответят они: "До тех пор уважали мы ходжу, пока наподобие свечи жег он себя в подсвечнике мира, накоплял дозволенное и запретное, драгоценную душу свою губил, а ради нас наполнял казну богатствами. Теперь ураган осени вырвал его с корнем из земли жизни. Не доходит теперь рука ходжи ни до посевов, ни до поля брани. Какое теперь нам до него дело, а ему от нас что за польза?"
Рассказ. Передают, что некий соловей свил гнездо на ветви в одном саду. Случайно ничтожный муравей поселился под тем деревом и на краткодневное пребывание свое устроил себе там жилище. Соловей день и ночь порхал по цветнику и заставлял звенеть барбат чарующих сердце напевов. Муравей же круглые сутки был занят сбором припасов. Стогласый певец на лужайках садовых упивался сладкой песнью, поверял ветке розы тайны свои, а весенний ветерок поддакивал. Жалкий тот муравей, увидев неприступность розы и мольбы соловья, думал про себя: "Что выйдет из этих бесед, выяснится это потом..." Ушла весенняя пора, осень пришла. Тернии заняли место роз, вороны поселились на месте соловьев. Подул осенний ветер, посыпалась листва с деревьев, пожелтели щеки листвы, остыло дыхание воздуха, из тучи посыпались жемчуга, сито воздуха начало сеять камфару. Залетел как-то в свой сад соловей и ни розы не увидел, ни запаха гиацинта не почуял. Онемел его язык, звучавший тысячью песен: нет розы, на совершенство которой он мог бы взглянуть, нет зелени, на красоту которой он мог бы посмотреть. От нужды изнемог он, от нищеты лишился песен. Вспомнилось ему: "Ведь когда-то обитал под этим деревом муравей и собирал там зернышки. Обращусь-ка я к нему и попрошу у него чего-нибудь в память близости наших домов и по праву соседства". Пошел голодавший два дня соловей просить подаяния у муравья и сказал: "О дорогой, щедрость — признак благородства и основа счастья. Провел я свою драгоценную жизнь в беспечности, а ты был благоразумен и делал запасы. Не мог бы ты теперь пожаловать мне хоть небольшую долю?" Ответил муравей: "Ты день и ночь распевал, а я трудился. Ты то наслаждался свежестью розы, то созерцал весну. Не знал ты, что за каждой весной идет осень, у каждой дороги есть конец..." О дорогие друзья, послушайте притчу о соловье и сравните с нею свое собственное положение. Знайте, что следом за всякой жизнью идет смерть, за каждым свиданием идет разлука. В чистом вине жизни всегда есть примесь осадка, и атлас существования не бывает без войлока небытия. Если вы вступите на путь поисков Истины, то прочтите слова: "Поистине в раю праведники", ибо это будет воздаянием вам, если же вы тащите поклажу свою в улицу мятежности, то выслушайте слова: "И поистине грешники в адской пучине", ибо это кара, достойная вас. Посреди весны мира не будьте беспечны, как соловей, на пашне мира старайтесь сеять покорность Богу, ибо "эта жизнь — посев жизни будущей", дабы, когда налетит осенний ураган смерти, войти в нору могилы, словно муравей, с зернышками праведных дел. Вам приказали трудиться, не будьте же бездельниками, чтобы в тот день, когда взлетит сокол слов и когда произойдет это событие, и раскроет крыла слов "не лжива достоверность сего", и придут в движение литавры грозного часа, и закипят мозги от жара солнца Воскресения, не пришлось возопить сердцам вашим от ужаса дуновения трубы и не пришлось вам прикусить зубами раскаяния руку смятения. Ведь такой день предстоит вам, старайтесь же за эти два денька, что дано вам отсрочки, добыть припасы на дорогу. Ведь день Воскресения — такой день, что люди на земле и ангелы на небе в этот день придут в смятение и задумаются, устрашатся пророки, задрожат святые, приближенные и предстоящие воззовут о помощи.
Если в день Сборища загремит грозный окрик,
сумеют ли пророки найти оправдание?
Но скажи: "Сними покров с милости",
ибо и у грешников есть надежда на прощение.
Если сегодня ты собираешь себе припас на дорогу с пашни этого мира, то завтра ты вступишь в рай...»
Характерная черта этой беседы (несмотря на некоторое повышение технического уровня цитируемых стихов) — ее стремление к наглядности и использование в качестве материала для поучения притчи. Можно не сомневаться в том, что и у более ранних авторов такие притчи, иногда народные анекдоты и сказки, занимали важное место. Цель их использования ясна. Рассказы такого рода, наверное, всегда имели широкое распространение среди неграмотных масс. Можно было ручаться, что такой рассказ слушателей увлечет и захватит. Пользуясь этим, шейх подводит под известный рассказ, притчу нужную ему теоретическую базу, толкует его применительно к основной теме своей проповеди и добивается тем самым того, что именно нужное ему толкование делается основным толкованием притчи для самого широкого круга. В беседе Саади притче о соловье и муравье, одному из предков всем известной крылов-ской басни «Стрекоза и муравей», дается толкование, едва ли вытекающее из первоначальной ее редакции. Но благодаря общей направленности беседы, искусному вплетению цитат из Корана оно кажется здесь вполне уместным и на простые умы в то время, несомненно, должно было производить глубокое впечатление.
Обратившись к Ансари, мы увидим, что в его произведении «Псевдо-Маназил», которое тоже, возможно, представляет собой записи или наброски бесед, такие притчи тоже занимают важное место. А отсюда один шаг к тому неистощимому кладезю занимательных притч, то величавых, то смешных и даже циничных, то трагических, то сентиментальных, но всегда неизбежно связанных с народным творчеством, которые мы находим в поэмах Аттара, Джалал ад-Дина Руми и других авторов вплоть до Абд ар-Рахмана Джами.
Здесь же нам важно отметить, что все это многообразие позднейшей суфийской литературы в конечном счете восходит к маджлису, из него вытекает, а тем самым определяются и основные, общие всей этой литературе черты.
Зарождаясь в городских кругах, будучи рассчитана на широкий круг слушателей, эта литература составляет, таким образом, своего рода контрбаланс к холодной технизации поэзии аристократической. И хотя суфийская поэзия всегда проникнута духом мистики (иной она быть в то время и не могла), но ее связь с народом, ее неизбежная демократичность, ее тенденция к критическому отношению к феодальной аристократии делают ее неизмеримо более живой и жизнеспособной, чем поэзия придворная. Она в какой-то мере дает возможность судить о характере народного творчества отдаленных эпох, и в этом ее огромная ценность, не говоря о художественной силе многих творений суфийских поэтов.
Но у суфийских авторов есть еще другая заслуга. Когда на Иран и Среднюю Азию налетел ураган монгольского нашествия, когда затрещали и рухнули троны почти всех воображаемых «миродержцев», придворная поэзия умолкла. Восхвалять стало некого, ибо монгольским ханам трескучие касыды на непонятном языке были не нужны. Не стало подачек — не стало и придворных поэтов, ибо все их искусство очень часто состояло только в умении выпрашивать эти подачки. Сказать им по существу было нечего. Но суфийские поэты в эти тяжкие годы не умолкли. Их аудитория — массы — осталась, ибо можно уничтожить династию, но нельзя уничтожить народ. Суфийскому поэту было для кого писать, более того, эта масса теперь в нем нуждалась еще больше, ибо она была разорена, истерзана и измучена и хотела услышать какое-то слово утешения. Суфийский поэт говорил слушателям о любви к ближнему, учил их сплотиться, призывал ко взаимной поддержке, на место звериного индивидуализма, сохранения жизни ставил общие интересы. Мы не знаем, как в те годы реагировал читатель на эти произведения. Но очевидно одно, что именно эти авторы спасли тогда лучшие традиции персидской литературы, донесли их до XIV—XV вв. и так дали ей возможность еще раз обогатить мировую литературу такими классическими произведениями, как бессмертные газели Хафиза и все разнообразные творения Абд ар-Рахмана Джами.
Без изучения суфийской литературы получить ясное представление о культурной жизни средневекового мусульманского Востока нельзя. Ее классики продолжали оказывать влияние на целый ряд восточных литератур вплоть до начала XX в. Все это и заставляет нас уделять ей такое значительное внимание, тем более что почти все крупнейшие авторы мусульманского Востока, за редкими исключениями, так или иначе связаны с суфизмом и без знакомства с этой литературой в полной мере поняты быть не могут.